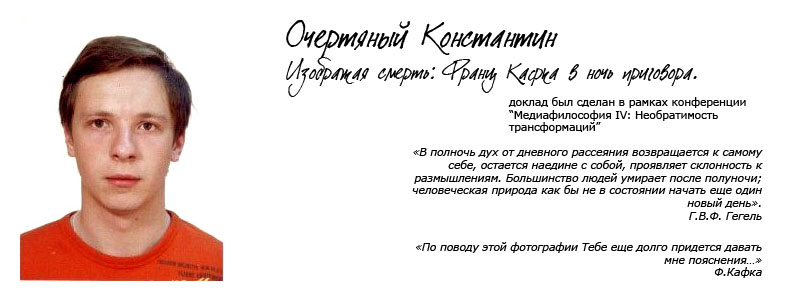
Кафка определяет свою задачу по отношению к литературе как трибунал. Даже названия его сборников и включенных в них рассказов выдают его отношение к литературе, выстраиваясь в своей целостности в угрожающее созвездие. Названия рассказов и романов: «Приговор», «Процесс», «В исправительной колонии»; сборников «Созерцания», «Кары», формирующие в своей целостности некое подобие манифеста отсылают к судебной функции письма. Кафка развертывает письмо как суд. И, в то же время, Кафка включен в литературу. Включен в нее не как часть в целое. Скорее он целиком вовлечен в литературу («Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии»[1]). Литература – его образ или, по крайней мере, образ, который он мечтал обрести. В этом смысле Кафка сам втянут в процесс. Суд вершится не только над литературой, но и над образом самого Кафки. Он нуждается в новом образе, в образе которого не существует, но который существовал. Существовал до литературы, предшествовал ей, ведь литература, точнее то, что выдает себя за литературу – предательство. Это предательство очевидно – оно виляет внимательному взгляду как некий хвост или как след предательской человечности – «даже безупречный, высший литературный шедевр прячет в себе хвостик человечности, который – если хотеть его разглядеть, да и глаз иметь наметанный – начинает потихоньку вилять, подрывая величественность и богоподобие целого»[2]. При этом по мнению Кафки, литература является предательством не тем или иным образом, но предательством самого образа. Литература долгое время паразитировала на своей внеположности – образе. Она обезвреживала образ, отменяла его движение или подменяла медитативное созерцание образа в движении вечного возвращения движением письма – линейного и наивно предсказуемого в своей последовательности. Поэтому главная задача Кафки – введение в текст события. Задача эта реализуется в два этапа. На первом этапе Кафка возвращается к образу, на втором этапе Кафка изобретает образ. Если литература обезвреживает разрушительное влияние созерцания, если она педантично выкристаллизовывает события в форме, не волнующих более изнеженный глаз лицемерного читателя, экспонатов, старых забытых за временем процессов, то процесс необходимо вернуть во всей реальности его ужасающей архаики. Процесс над литературой должен вершиться от имени того, что она предала – от имени образа, предшествующего и вытесненного литературой. От имени архаического образа – неизвестного и недифференцированного образа – ночи. Суд должен вершиться от имени Первообраза.
Но как возвратить преданную забвению архаику в полноте переживания ее вытесненного образа? Ответ Кафки прост – изобретая. Воспоминание творится здесь и сейчас – изобретается. Архаика возвращается в форме новейшего изобретения. Архаические практики производства образа возвращаются в форме наиболее современных технологий – в форме технологий производства фотографического образа. В этом смысле Кафка теоретик фотографии, но также фотограф. Возможно ли это? Человек за свою жизнь не державший в руках фотоаппарат и перманентно грезивший о литературе оказывается фотографом? Да, это возможно. Во-первых, потому как спектр «грез» Кафки достаточно широк – от фантазий о возрождении Палестины и участия в ее возрождении в качестве колониста до желания полностью посвятить себя садоводству. На этом фоне фигура «Кафка – писатель» не более чем секундная прихоть. В свою очередь, его свидетельство о том, что он весь состоит из литературы несравненно более важно, чем желание стать писателем, т.к. оно говорит об образе. Но в пользу образа и его производства Кафкой – фотографом говорит и еще одна важная деталь, а именно то, что отсутствие объективной сборки технических установок как механизма, ни в коем случае не устраняет возможность использования этих техник в качестве авторских установок. Кафка пишет так, будто делает фотографии…
Для начала определим функцию фотографии (по Кафке), а затем продемонстрируем топос ее производства.
Что касается функции, то Кафка довольно точно определяет ее (хоть единственное свидетельство об этом дошло до нас в пересказе Густава Яноуха) в следующем высказывании: «Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из сознания»[3]. И здесь он тверд в своей позиции по отношению к этому процессу: «Мои истории – своего рода попытка закрыть глаза»[4]. Итак, образ в ходе его припоминания (ведь письмо будто бы создано для поддержания памяти) долгое время вытеснялся и подавлялся в своем переживании, т.е. не переживался вовсе – это пространство, не дающее возможность пережить событие, Кафка провозглашает пространством света. «Мой мир рушится…Я не жалуюсь на то, что он рушится…я жалуюсь на то, что он встает снова, на то, что я родился на свет, – и на свет солнца жалуюсь тоже»[5]. И действительно, свет налагает границы. Он привязывает Кафку к тому или иному образу, не являющимся образом в собственном смысле, а выступающим скорее функцией или ролью, т.е. так или иначе – диктатом. Свет принуждает Кафку соответствовать своей роли. Роли буржуа, ожидающего помолвки молодого человека, чиновника страхового агентства – вот границы налагаемые светом на фигуру Кафки. Эти роли он обязан исполнять днем, а ночью…? Ночью… он пишет. И по большему счету ночь превосходит все его желания – она укрывает, маскирует. Она дает возможность писать, предоставляя убежище для процесса письма и для процесса над собственным дневным образом, в ходе которого последний приговаривается к смерти. Т.е. ночь также высвобождает пространство под заседание трибунала и содействует вынесению приговора. «Только неистово писать ночами – вот чего я хочу. И умереть от этого или сойти с ума…»[6]. Логика Кафки строга и последовательна: если день – пространство света, фиксирующее границы предметов, устраняет возможность пережить эти предметы как некое событие, то для того, чтобы ощутить интенсивность переживания вытеснения/забвения этих событий необходимо закрыть глаза – добавить ночи или, что то же – сделать фотографию.
Таким образом, Кафка выступает против всей длительной европейской традиции, отдающей предпочтение свету – от метафизики света до естественного света разума и Просвещения. Но Кафка возвращается к образу ночи не для того, чтобы противопоставить его дню. Это означало бы всего лишь перевернуть оппозиции свет/тень, день/ночь. Он не пытается сделать тьму доминантой. Скорее он желает показать, что тень также непонятна как и свет. Свет и тень нужно исследовать во взаимопроникновении. Для этого необходим анализ, а также умение держаться поодаль, необходимо выдержать пафос дистанции. Отсюда первое стремление Кафки как фотографа – точная выдержка. Свет нуждается в ограничении со стороны тени, а потому Кафка уходит в тень, оставляя свой дневной образ. «Теперь же я приговорен к тому, чтобы изгнать самого себя: это не я, а кто-то другой будет сидеть там за столом, вставать, произносить три заученных фразы и поднимать бокал, все это исполнит некая тень моего печального образа»[7]. Кафка приговаривает свой образ к исчезновению в смерти, приговаривает привычные границы – градиенты света к деградации, стиранию. Он устанавливает собственную, автономную выдержку, пытаясь концептуализировать недифференцированное светотеневое пространство. Иными словами, он пытается эмансипировать, проявить, то, что до сих пор вынужденно было скрываться или было скрыто силами дня – архаический образ преданный письмом – белым пространством сдерживающим черные дыры образов. Приговор вершиться ночью, обратимся же к опыту этой ночи…
В ночь с 22 на 23 сентября 1912 года Кафка пишет рассказ «Приговор» – первый опыт одиночества выкроенного в неравной борьбе, – своеобразный побег – ускользание («Когда я садился писать, мне хотелось после чудовищного, хоть кричи, воскресенья описать некую войну»[8]), – опыт становления ускользающим от процессов субъективации недифферинцированным миром, опыт становления ночью. Подобное становление является и практикой письма, и экзистенциальным упражнением по воссозданию собственного образа, и практикой производства образа. Универсальное тождество здесь – производство. Ничего кроме производства. В этом смысле сюжетное производство тождественно экзистенциальному производству. Главный герой «Процесса» проходит путь от письма к образу (отец Бендеманна как метафора архаического образа или ночи), в то время как Кафка, в ходе написания новеллы возвращается к своему образу, к образу в собственном смысле слова, сливаясь с первобытной ночью. В ночь с 22 на 23 сентября – Кафка уходит, уклоняется от письма, маскируясь в своей неразличимости с ночью возрождает образ под видом письма. Ведь только под видом старого можно представить новое. Кафка представляет древнее архаическое в своей новизне под видом чего-то привычного и недавнего – письма. Бендеманн в «Приговоре» также недавно заканчивает письмо. «Он как раз кончил письмо…».
Вместе с завершением письма к концу подходит проблема образа, вернее, образ, переставая быть проблемным – актуализируется: Георг Бендеманн, долгое время избегающий необходимости действовать в письме согласно своему образу (образу верного друга или только что обручившегося молодого человека) примиряется с требованиями идентичности, налагаемыми теми образами, которым он пытается соответствовать («Я таков, и пусть меня берут таким, как я есть»[9]). Т.е. то, что до сих пор оставалось в тени отныне приговаривается существовать в пространстве света. Однако в этом примирении обнаруживается уловка. Дело в том, что Кафка определяет свет не как нечто самостоятельно законодательствующее в наложении границ, и не как нечто соотносящееся с тьмой, ночью напрямую. Скорее свет это предел, обуславливающий существование ночи, которая в свою очередь обеспечивает существование отсутствия как свободного пространства необходимого для движения, шире для существования вообще. Ночь, содержащаяся в образе это люфт – точка отсутствия, запускающая движение линий жизни, мысли и контуров смысла, точка, стягивающая в пустоту своего пространства в сверхсветовой скорости токи сущего, словно застывшие в бесконечном движении в бесконечность. Это пространство движения смерти, в котором сущее подходит к своему пределу, определяя себя в качестве сущего. Образ это акт умирания. Изнутри него просвечивает точка невозвращения, к которой стягивается все его существование. «То было явление природы, какого я еще никогда не видел: солнечный свет, меркнущий не от туч, а изнутри»[10].
«Свет, меркнущий изнутри» – образ, пришедший на смену тексту, образ более адекватный функциям текста, нежели сам текст. Тьма, определяющая и запускающая в движение потоки света – новый образ письма – светопись или фотография. Ее преимущества очевидны: текст не является более продуктом коннекции, он не производится в том смысле, что акт его произведения не совпадает более со структурой общественного производства, монотонного и калькулируемого в своем движении, отныне текст творится одномоментно – одним ударом, отменяя тем самым время, историю, всевозможные формы деления и регистрации. «Я лишь временами живу, в маленьком слове, в его ударении я, например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову («удар» сверху)»[11] . Отныне акт творения ничего не добавляет (отмена коннективной связи, отказ от «и еще»), скорее, напротив, «убирает» что-то, а именно то, что до сих пор казалось наиболее значимым. Например, убирает автора, его голову, которая оказалась «ни на что не пригодной», убирает предмет долгое время эту голову занимавший. Движение не останавливается, оно ускоряется, но в своем ускорении, превышает привычно считываемые скорости – например, скорости текста. Текст кажется застывшим, не читаемым, потому что он выбивается из ритма, выходит за грань привычных техник письма, возвращаясь к древнему образу творения, но, вместе с тем и к творению образа. Для Кафки акт творения это момент смерти – идеальный писатель – тот, кто пишет телом, его предсмертными судорогами в первое (и последнее) мгновение после отсечения головы («удар сверху»). Дальнейшее уже несущественно – это уже просто инерционное движение. Но сам момент «лишения головы», что это как не обретение образа? Угроза лишения жизни, пограничная ситуация как бы аккумулируя жизненные силы, подготавливает возможность их разрушительной разрядки в случае снятия последнего предела. Тогда, порывая со всеми барьерами, жизненные силы преображаются, образуют новый мир, выходящий за рамки мира как текста. В акте творения создается язык не читаемый более, в нем есть что-то знакомое, что – то, что, казалось бы, подлежит воспоминанию, однако это язык недоступен письму. Это язык-пароль, язык-образ. Ключ к нему был утерян уже при его возникновении, он изначально создавался как шифр, как «мертвый язык» . Момент его рождения это и момент забвения, смерти . «Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из сознания. Мои истории – своего рода попытка закрыть глаза».
«Свет, меркнущий изнутри» – не метафора, не образное определение, но акт, включенный в процесс производства образа, технический элемент его производства, а именно вспышка импульсной газоразрядной лампы в момент снятия фотографии, которая «отсекает» тени, вводя в пространство иллюминации ночь, также как символическое отсечение головы вводит в пространство текста образ, подрывающий определяющие границы этого пространства. Итак, комната Кафки ночью – camera obscura, эмансипирующая образ и в то же время технически производящая его. Кафка пишет быстро, т.е. мгновенно фиксирует момент переживания, пытающегося скрыться от объективного взгляда (или объектива), стремящегося снова стать протяженным. Кафка замирает… выдержка, вспышка, фотография… проявление фотографии. Получается не слишком похоже. Бендеманн напоминает Кафку лишь отдаленно. «И посмотри-ка, в имени Георг столько же букв, сколько в имени Франц, фамилия Бендеман состоит из двух частей, «Бенде» и «ман», причем в Бенде столько же слогов, сколько в фамилии Кафка, да и две гласные стоят на тех же местах, а сугубо мужское «ман» придано из сострадания, чтобы этого несчастного Бенде поддержать и укрепить в его борьбе. В имени Фрида столько же букв, сколько в Фелиции, да и начинаются они с одной буквы, к тому же латинское «счастье» недалеко ушло от немецкого «мира». Бранденфельд благодаря аграрному корню «фельд» имеет отношение к крестьянской фамилии «Бауэр» и оснащено той же начальной буквой»[12].
Имена, лица, знаки все это мешается и путается, сливаясь в ночном бреду – «горячке безличности» – по выражению Жоржа Батая, – отрывая пишущего от навязчивого звучания привычных сигналов повседневности и главным образом от звона собственного имени – последнего о(плота) солярной субъективности безнадежно ищущего отклик – подтверждение в пространстве ночи. Кафка делается тенью. Уклоняясь от точек опоры, организующих субъективность, он движется в сторону смещения контуров – границ затенения образа, отныне он «тень печального образа». Но кто важнее для письма странник (маскирующий(-ся)) или его тень (проявление маски(руемого)? И что в таком случае представляет собой снимок – посмертную маску ушедшей в тень вещи, или напротив, динамический образ – игру теней, получившую свободу от вещи? Образ изгнания, исключения для творения, например исключения себя для сотворения себя в качестве творца, или исключения – закрытия глаз для создания особой оптики – немигающего глаза . Все это примеры эсхатологические, но также технические и сюжетно- топологические. В рассказах Кафки мы постоянно наталкиваемся на поразительное единение сюжета текста с техникой производства этого текста. Как будто Кафка не пытаемся показать ничего в акте творения кроме самого акта творения. Он словно всякий раз блуждает по границе образа творения, возвращаясь к основным его условиям. Или, напротив, введя в мир света, в мир предела и границы образ, превосходящий повседневные категориальные механизмы, подавляющего определения , Кафка обрек нас на вечное возвращение одного и того же в своем ином? Как бы то ни было основной постулат Кафки как творца, заключается в введении события, посредством выведения из поля письма повседневности. Мгновенный снимок («свет, мернующий изнутри») одновременно и изгоняет предмет, запуская в ход изобилие смыслов возникших, вследствие предельного расщепления предмета – смыслы здесь освобождаются от давления формы до сих пор сдерживающих их воедино – и демонстрирует акт изгнания. Демонстрирует двояко: с одной стороны как элемент сюжета, а с другой как творческую технику. Так Грегор Замза – черная точка, заставляющая прийти свет в движение (доказательство – оживившаяся после превращения «светская» жизнь семьи Замзы). Подпрыгивающие шары в шкафу Блюмфельда, заставляют прийти в движение его комнату – она начинает размножаться, в ней один за одним появляются дети. Но первый акт творения, как и манифестиция последующих его повторений приходиться на ночь с 22 на 23 сентября 1912 года – ночь приговора.
«Приговор» не только выносит вердикт по отношению к тому что Кафка изгоняет в темноту ночи, но и высвечивает, т.е. в качестве фиксации высшей точки интенсивности ночи, где она в глубине отсутствия света становится светлее света – вычерняет, подчеркивает отмирающие контуры образа, от которого шаг за шагом с каждой записью удаляется Кафка. Образа, который не являлся образом в собственном смысле слова, который не являлся и образом письма, скорее это был продиктованный образ, которому Кафка пытался сопротивляться письмом или, что то же письмом становящимся образом. «Приговор» – это посмертная фотография того, кто мог быть Францем Кафкой, не реализуя при этом все движения и токи, пронзающие тело и мысль Кафки, которые он сам долгое время считал лишь тенью. Теперь Кафка работает с тенью, теперь он сам тень («отныне..я тень») и топически его положение не совпадает с положением «дневного» Кафки. Он не адекватен себе, но если говорить о возвращении себе себя, о возвращении миру значимости и наращивании интенсивности его переживания как события, или более – изобретение его, в качестве события, то здесь Кафка как нельзя более адекватен. По крайней мере, сюжет и техника не расходятся. Установки вскрытия архаического образа или, что то же – его изобретения проявляются во всей полноте, представляя собой предельно точный снимок – выражение ситуации в которую оказывается, помещен Кафка. И у этой ситуации есть своя аллегория – фигура выражения или концептуальный персонаж. На снимке, из первоначальной черноты общего фона высвечиваются контуры первообраза – фигуры отца.
«Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое солнечное утро»[13]. Отец – «обитатель» комнаты (Бендеманну во всех смыслах сложно назвать его жильцом) – это древняя сила тьмы – вытесненная и забытая, это образ вытесненный линейным письмом, тьма вытесненная светом, забывшим о своем с ней родстве. Все началось с изображения, и вот сейчас его необходимо восстановить в правах, а операцию по восстановлению образа тщательно замаскировать под операцию написания текста. Иначе образ просто не сможет раскрыться, он не сможет открыть себя в качестве образа, т.е. не сможет существовать. Образ маскирует Кафку, но прежде Кафке необходимо замаскировать сам образ. И проблема маскировки, как и нужда в образе встает всерьез. Она становится проблемой выбора между жизнью и смертью. Об этом косвенно свидетельствует запись Кафки, сделанная за год до реализации его замысла: «Так как я, кажется, вконец измотан – в последний год я был бодр не больше пяти минут, – мне предстоит каждый день желать исчезнуть с лица земли или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне мне будет легче, чем тогда. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к изображению, которое было бы каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижать к груди и которое сорвало бы меня с места»[14]. «Измотанность» Кафки – это протяженность формы текста, это кара как текст, та участь, которая выпадает Кафке, заставляя его писать и при этом делая этот процесс невозможным. Вот почему ему необходима ночь, пакт с древними силами позволяющими вернуть образ (стремление к изображению), реализующими письмо как образ или по определению Кафки заклинающими письмо как образ: «писание – своего рода заклинание духов»[15]. Но образ – древние силы, воплотившиеся в фигуре отца реализуют свой приговор. Они заставляют исчезyть: сюжетно-Бендемана, технически – текст, субъективно – Кафку. «Приговариваю тебя к воде». Кафка более не автор, не субъективная точка отчета, влекущая за собой длительность протяжения линейного письма, но точка отсутствия, или, что то же – точка объективного присутствия – объектив. Даже чувства, интенсивные переживания проходящие сквозь текст, не успевают преломиться и рассыпаться на оттенки, они даются мгновенно. И в этом мгновении утрачивается вместе с линейностью письма линейность времени. Древние силы это новые, юные силы. Бендеманн – отец молодеет…
И вот он уже юн! Отец – юн и он же юный мошенник, он ворует письма, пишет новые, подкладывает письма. Но подкладывая письма, он сообщает истину. Делает невидимое видимым: «Дурак, он все уже знает, все уже знает! Я написал ему, ведь ты же забыл спрятать от меня перо и бумагу»[16]. И здесь, опять возникает проблема образа, хотя речь по видимости идет о письме. Стоит вернуться к противоречию, которое заключается в образе для того, чтобы понять проблему, устанавливаемую Кафкой. Образ это образ действия, мысли, наконец, это образ, контуры которого создаются на пересечение первых двух образов – образ жизни. Но эти образы не являются таковыми в собственном смысле. Они напрямую зависят от речи или шире от любой формы диктата. Кафка принужден действовать определенным образом, Бендеманн определенно обречен соответствовать образу. Право диктовать или голос принадлежит отцу и он же определяет образ, или подделывает письма. Т.е. вводит посредством письма голос, определяющий и законодательствующий – голос судьи, выносящего приговор, возлагающего вину. «Приговариваю тебя к казни – казни водой»[17]. Приговорить к воде – помимо всего прочего значит определить, вывести на чистую воду, сделать явным: «Дурак, он все уже знает, все уже знает! Я написал ему…» Но отец , повторимся юн, это отец – старик налагает границы на образ, заставляет присутствовать письмо в этих границах, которые в свою очередь устанавливаются (его) речью. Отец, к которому возвращается молодость, поступает иначе. Вода для него средство очищения, или избавления. Он нем, голос более не властен над ним, и в таком случае это уже образ в собственном смысле, образ, существовавший до письма и диктующего голоса, образ, возвращенный к невинности и осуществляющий кару, выносящий приговор письму и диктату речи. В этом заключается второй пункт приговора или проблема ставящаяся Кафкой относительно образа. Как сочетается древность образа с его юностью. Юный образ не просто результат возрождения древних техник в форме новейших технических достижений. Фотография это не картина, где технику художника заменяет техника аппарата. «Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из сознания». Т.е. образ, обретший юность это хтоническая пустота, точка отсутствия. Предмет юн, пока он не определен, образ юн, пока он не начинает определять или когда он определяется как «изгоняемый», т.е. когда он сам устраняет себя от роли определителя и от границ определяющих его самого. Фотография здесь является посмертной, в том смысле, что она устраняет предмет, Кафка делает фотографию, а не пишет рассказ в том смысле, что он устраняет акт описания как форму образа изменившего самому себе и впавшего в зависимость от голосового письма. Письмо для Кафки – попытка выразить, то, что принципиально не поддается выражению, или попытка показать скрытое («Я написал ему»), но не в том смысле как будто что-то было скрыто и теперь выходит на свет, напротив письмо Кафки выражает то, что было до письма, света и любого присутствия. То, что принципиально не выразимо на языке письма, света (без его определения со стороны тьмы), и присутствия в целом. Это проблема негативной теологии, а также проблема оптики. Кафка фотограф не в большей степени, чем Псевдо-Дионисий Ареопагит пытающийся выразить образ «сверхсветлой тьмы» или апостол Павел обвиняющий, привычную оптику в отсутствии отчетливости («сквозь тусклое стекло»).
Проблема «тусклого стекла» – теологическая, гносеологическая, но также техническая проблема – проблема, вызванная сбоем техники, светотеневая проблема, а именно проблема дисперсии цвета, предела его разложения, а также абберации, т.е. рецидива цвета. Иными словами проблема невозможности (ре)конструирования образа (ведь упомянутые Псевдо-Дионисий и Павел также фиксируют ситуацию невозможности его построения или выражения). Свет подвергается дисперсии, он разложим. Его разложение зависит от длины волны и фазовой скорости, т.е. скорости, предел которой предполагается средой – веществом в котором распространяется свет. Оптическое стекло обеспечивает преломление света, уменьшение его скорости и распадение на градиенты цвета. Проблема Бендеманна или Кафки также связана с разложением и распределением – они оба включены в среду, где движение света тормозится и разлагается на градиенты. Проблема фрустрации напрямую связывается с проблемой незащищенности – с отсутствием спасительной тени, могущей оказать сопротивление пространству светового диктата – размечающего и определяющего. Отец Бендеманна выносит приговор сыну, от лица ночи, или утра («рань того утра, с которым только и начинает¬ся возможность смены дня и ночи: самое раннее и прадревнее одновре¬менно»[18]). Сын остался уязвим потому, что он не был связан с тьмой. Он оставался на свету, и каждое действие делало его виновным, т.к. он действовал в пространстве света, т.е. текста, освещенного традицией. Он жил как чужой текст, он жил под диктовку текста носимого им внутри или написанного на его лице. Даже его лицо было продуктом чужого текста, оно было набрано как текст (коммерсант друг Бендеммана, видит последнего лишь, как письмо, которое к тому же не соответствует действительности, он принимает маску-письмо Бендеманна за лицо в первозданной хрупкости). Эта жизнь была его технической ошибкой, но технически, сбоем программы которую он проживал, стала встреча с помолодевшим отцом. Параллельно Кафка, для которого фигура Бендеманна отчасти являлась маской, маскируется в тени ночи, заключает договор с ночью-древностью (фигура отца Бендемана) и последняя представляет заключившему договор подлинно древнее оружие – образ, творящийся на стыке света и ночи, но опять под маской техники. Это еще не фотография в объективированном виде, но уже структура образ-аппарат-техническая установка, которая без труда переводиться в образ как визуальную практику. Для реализации этой практики Кафка пользуется каналами литературы. Пользуется по видимости. Он не может дать слово древним силам – силам, существовавшим в мире (образу) и вытесненными линейным письмом напрямую, поэтому он маскирует образ под текст. Он превращает техническую ошибку в прием, а изъян программы в осуществление новых намерений – реализации приговора, как манифеста. Кафка, как и Бендеманн дисперсивен, он разложим в том смысле, что под давлением диктата, разлагается на компоненты или функции (функции налагаемые обязанностями коммерсанта, семьи, невесты, друга). Он переживает градиенты, возникающие вследствие торможения движения света – текста (Кафке не дают писать, у Бендеманна неприятности начинаются сразу по окончании письма) как угрожающие его существованию. Он боится людей. Но движение света в письме – это также и светопись, т.е фотография, а Кафка определяет функцию фотографии в изгнании. Фотография изгоняет предмет. Но она изгоняет и автора, предоставляя видение объективу или глазу Первообраза превышающего любые мыслимые или экзэкзистенциальные пределы. Движение света возможно благодаря тому, что он «меркнет изнутри», точка отсутствия, перспектива смерти задает движение жизни, и последним шагом в этом движение является «просыпание» утром, ранью «того утра, с которым только и начинает¬ся возможность смены дня и ночи: самое раннее и прадревнее одновре¬менно». Конечный пункт здесь удивительным образом совпадает с началом в одной точке. «Я не могу отделаться от той мысли, что я был мертв до своего рождения и что после моей смерти я вернусь к тому же самому состоянию…»[19]. Но что это за точка неразличимости – не является ли именно она образом, блуждая по которому взгляд «схватывает один элемент за другим и устанавливает временные связи между ними» (Флюссер). Он может возвращаться к уже увиденному элементу образа, и из «прежде» получается «после»:время реконструированное таким сканированием – это время вечного возвращения того же самого. Время образа замкнувшегося на себе, вернувшегося к себе и обретшего свойства перманентного обновления в движении вечного возвращения. Юный образ умирающего. «Бедный мальчик, тебе нельзя помочь! Я обнаружил у тебя большую рану; этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью». Молодое лицо Кафки на посмертной фотографии – вот образ, к которому он возвращался всю жизнь. И как и все самое сокровенное существует под своим Иным, этот образ существует под видом текста – «Приговора». Пережил ли Кафка ночь приговора? А ночь – Кафку?


