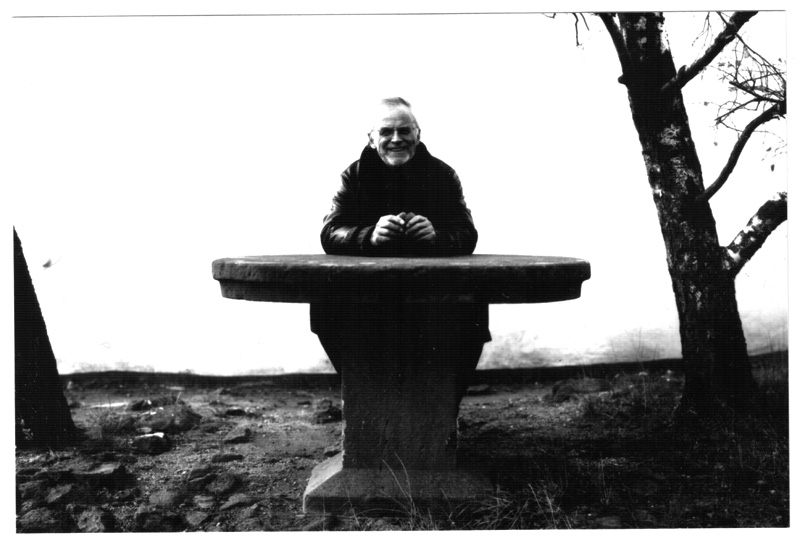Отчет Константина Очеретяного о коллоквиуме «Дитмар Кампер: личность, идеи, творчество»
Коллоквиум посвящен 75-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти.
Коллоквикум «Дитмар Кампер: личность, идеи, творчество» состоялся 28 октября на Философском факультете СПбГУ. Инициатором и организатором коллоквиума, приуроченного к десятилетию со дня смерти Дитмара Кампера, выступил Исследовательский Центр медиафилософии, усилиями которого ранее была выпущена первая книга Дитмара Кампера на русском языке (Дитмар Кампер. Тело. Насилие. Боль. СПб.: Изд-во РГХГУ. 2010), вводящая его фигуру в контекст отечественной гуманитарной мысли.
Вступительное слово, а также первый доклад принадлежали д.ф.н., проф., директору Центра медиафилософии – Валерию Владимировичу Савчуку.
Свой доклад Валерий Савчук начал с указания на имевшуюся в аудитории экспозицию фотографий Тома Фехта – друга и фотографа Дитмара Кампера, а затем посвятил несколько слов биографии и стилю философствования мыслителя. Сделав акцент на позднее вхождение Кампера в академические круги, докладчик обратил внимание на то, что первичный имманентный интерес Кампера к телу (как интерес учителя физкультуры), оборачиваясь философской озабоченностью проблемой телесности и связанными с ее формированием практиками, становится основным лейтмотивом стиля мысли философа. Так, например, письмо Кампера, словно сопротивляясь чтению, отражает телесную напряженность, предельную сосредоточенность, в которую он вовлекает и читателя.
Однако, как не преминул напомнить докладчик, проблема темноты письма Кампера, являясь проблемой для читателя, в то же время остается проблемой переводчика и интерпретатора. Мы худо-бедно знаем, как переводить слово, идеи, но как переводить темноту, таящую смысл, а не темноту и смысл порознь – нет. Как сохранить смыл – не очевидно. Его темнота не является проблемой небрежности в отношении собственных мыслей. Напротив, она являет собой ту напряженность и тот мучительный поиск понятийного аппарата, который до сих пор не создан философией. Последняя, по крайней мере, в своей академической ипостаси, просто не успевала приспосабливаться к тем проблемам, которые ставил Дитмар Кампер. Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся маргинальность Кампера (хотя и об этом не уставал на протяжении своего выступления напоминать докладчик – XX век почти целиком принадлежит маргинальной философии), те события – конференции, круглые столы, институции, которые организовывал или в организации которых принимал участие Дитмар Кампер, – имели своими характеристиками строгость в постановке проблемы и ответственность в реализации проблемного дискурса. Свидетельством подобной ответственности может послужить организованная Дитмаром Кампером 6-7 июля 2001 года Международная конференция «der [im]perfekte Mensсh» (совершенный/несовершенный человек), на которой приглашенные докладчики вынуждены были озвучивать свои тезисы, касающиеся феномена инвалидности, перед действительными членами многочисленных инвалидных сообществ, приглашенных на конференцию. Второй особенностью подхода Кампера, относящейся к стилю письма в той же мере, как и к организаторскому подходу, является всеохватный интерес как непрестанное требование философа мыслить о мире как одном. Действительно, Кампер не имел предубеждения против какой бы то ни было темы философии, все события в мире оставались для него равно волнующими и требующими осмысления. Тот же подход, как отметил Валерий Савчук, можно проследить и в отношении концептуального оформления многочисленных тематических сборников, редактором которых выступал Кампер. Так, в сборнике, посвященном 65-летию Кампера, одним из самых частотных авторов оказался упомянутый выше Том Фехт, фотографии которого Кампер не только включил в сборник на равных со статьями правах, но и указал имя автора и название фотографии в оглавлении как если бы это были статьи. Так же нетривиально проявилось его отношение к смерти. Зная, что он умирает от рака, философ в мельчайших деталях продумал организацию собственных поминок, включая выбор кафе, приглашенных участников, количество и частоту смен блюд и перечень напитков. Обязывая всех быть в хорошем настроении и поддерживать общую веселую атмосферу, можно смело сказать, переводя язык в режим немецкой традиции: «дух» события смерти, философ, таким образом присутствовал вполне актуально в кругу близких друзей и после смерти. Подобная актуальность в не меньшей, а то и в большей степени сопряжена с духом его творчества.
![]() Смотреть полную видео-запись доклада Валерия Савчука
Смотреть полную видео-запись доклада Валерия Савчука
![]() Обсудить доклад Валерия Савчука на форуме
Обсудить доклад Валерия Савчука на форуме
Следующим докладчиком выступил к.ф.н. Михаил Александрович Степанов. Отдавая должное немецкому философу, Михаил Степанов, сосредоточил внимание аудитории тем, что озвучивал свой доклад в русле немецкой традиции, читая заранее написанный текст с листа. Доклад под названием «Актуальность Кампера» автор начал с дистинкции понятия «актуальность». Исходя из первого определения этого понятия, мы понимаем под ним «современность» или «адекватность современности»; во втором смысле, говоря об актуальности, мы разумеем «вечное», «непреходящее». Однако, как заметил докладчик, понятие «актуальность» может быть и вовсе отменено, как это было сделано, например, куратором павильона России на биеннале 2011 в Венеции, теоретиком современного искусства Борисом Гройсом. Гройс, считая, что концепцию актуального нужно «деконструировать», полагает, что «ничего такого “актуального” в современном мире больше нет, потому что нет однозначно понятого исторического прогресса. В настоящее время сосуществуют практики, которые различны по времени возникновения и месту происхождения: Кабаков, романтизм, барокко, искусство аборигенов Австралии. Сейчас мы имеем не только эпоху глобализации, но и эпоху транстемпоральности… Так что сам по себе критерий актуальности не кажется мне действующим критерием. Действующим критерием для меня является критерий релевантности. То есть я хочу показать в Венеции то, что в каком-то смысле релевантно.»[1]
Исходя из такого понимания видно, что Кампер (хотя бы потому, что физически он – мертв) актуальным быть не может, но продолжает оставаться релевантным. В таком случае о нём следует говорить как о релевантном актуальном философе. Актуальность Кампера – это как темы, так и сам способ мысли практиковавшийся им. Кампер, как и другие философы его современники: Флюссер, Деррида, Бодрийяр и др. – ушли, унеся с собой ту (созданную ими же) традицию, в которой они присутствовали актуально. Но если о последних трех философах все еще можно говорить в терминах актуальности – существуют архивы, журналы, посвященные им исследовательские лаборатории – то актуальность Кампера попадает под сомнение. Чем может быть актуален Кампер? Он не современен нам в том смысле, что его нет с нами уже десять лет, и он, не будучи легитимирован в статусе архивного экспоната истории философии, не может быть отнесен к фигурам вечности. Мы не можем говорить о Кампере как об актуальной фигуре, но можем говорить о нем как о релевантном современности философе. Его релевантность – это тематические поля и сам способ мысли, практиковавшийся Дитмаром Кампером. Предмет его исследования – это материальность времени, его не системность и хаотичность, а способ работы со столь сложными предметами – метод актуализации. Как заметил докладчик, современность отличают тотальность и, по словам Кампера, «смертельность» абстракции. Абстракция вклинивается в тело – так, по мысли Поля Вирильо, современная наука ставит своей целью не освоение мира, но освоение человеческого тела. Именно благодаря используемой методологии, которая стремится к актуализации и проблематизации всякой абстракции, Кампера как философа можно отнести к маргинальным мыслителям, но благодаря этому методу мысль Кампера и становится релевантно-актуальной, вне смысла «современности» и вне смысла «вечности». Острая тема исследований Кампера – это увеличивающиеся число посредников за счет абстрагирования человеческих способностей. Посредническая оболочка человека разрастается, разбухает и требует всё более сложных форм коммуникации, более сложной и многоступенчатой деятельности. Можно подумать, что теперь не осталось ничего непосредственного, подлинного – однако это не так; уникальность ситуации в том, что абстракция тотальна и смертельна, так как вклинивается в тело, в само человеческое. Посредники всегда были, так как без них не возможно ничто очевидное и достоверное.
Кампер избегает, уходит как от «объективного» описания, так и от конструирования теоретических объектов. Его понятия остаются «открытыми», всегда готовыми к последующему включению в конкретное исследование, что влечет запрет на их использование как абстрактных понятий, или традиционно метафизических понятий. Он последовательно стремится избежать абстракции, что невозможно, как невозможно парадоксально говорить о человеке, будучи самим человеком. Можно извести человека до факторов физической природы и изучать его наравне с вещами. Кампер дополняет такое исследование (по сути антигуманистическое, так как отказывается от автономии субъекта) историчностью, вводит фактор времени как в изучаемый объект, так и в способы изучения. Можно сказать, что его интересует не феноменологическое исследование проблемы внутреннего чувства времени, а, если так можно сказать, внешнее чувство времени – материальность времени – его реализация или актуальность. Это пространство человеческого – живого, настоящего – которое производит и воспроизводит весь человеческий опыт. Способ существования которого мы называем медиумом, постоянно разыгрываемым хронически открытым понятием. Работа Кампера не анализ, не синтез, автор не сводит к простейшему и не конструирует/синтезирует единое сложное. Его работа осуществляется в конкретном её актуальном осуществлении, в постоянной актуализации открытых в бесконечность понятий. О каком акте здесь идет речь? Иллюстрацией здесь послужит маленькое замечание Кампера к наброску антропологического четырехугольника: он пишет об использовании антропологического четырехугольника ‑ это «схема, которая, однако, из-за своего плоскостного истолкования тотчас должна вычерчиваться снова». То есть только в акте самой мысли мысль возможна, и все репрезентации её лишьв перформативном исполнении приобретают значимость и бытийность. Понятия, используемые им – не столько концептуальные инструменты, сколько событийная среда – топка интелектуальной печки – куда подкидываются другие понятия, ситуации, тексты, подвергаемые взаимотрансформации.
Специфика мысли Дитмара Кампера именно в том, что он инстинктивно исследует проблемы настоящего в перспективе на будущее. Так было с фундаментальным проектом «Возвращение тела», ставшим на два десятилетия основанием неимоверного множества исследований тела, обязательной работой для университетских исследований, а также спусковым крючком для возникновения телесного поворота. Так произошло с «Umzug ins Offene» – серией мероприятий в Гамбурге и Вене, проведенных в 1999 году Д. Кампером совместно с такими исследователями как Вирилио, Вальденфельс, Слотердайк, фон Самсонов и т.д. Спустя уже уже пару лет появляются исследования по философии пространства и уверенно провозглашается «spatiual turn». Кампер, как верно замечает его биограф Рудольф Мареш, опережает время на 10-15 лет, поднимая несвоевременные темы.
![]() Смотреть полную видео-запись доклада Михаила Степанова «Актуальность Кампера»
Смотреть полную видео-запись доклада Михаила Степанова «Актуальность Кампера»
По окончанию доклада, прозвучали вопросы, первый из них принадлежал к.ф.н. Ирине Шугайло:
Ирина Шугайло: Михаил, непрерывно воспроизводимый на всем протяжении Вашего доклада тезис, звучал так: «Кампер вне вечности». Значит ли это, что фигура Кампера занимает особенное место в движении современной мысли? Или, если сформулировать вопрос иначе: все-таки он остается фигурой второй величины или пока еще просто не вписан в архивы вечности?
Михаил Степанов: Если собрать книги Кампера вместе – мы получим большую библиотеку, тем более, что если учесть книги, которые были им инициированы и редактором которых он являлся – библиотека будет уже более чем внушительной. Но в отношении Кампера мы не можем указать признаков вечности его фигуры – нет центров исследования его наследия, так сказать центров сакрализации, проектов издания собрания сочинений и т.п. практик поклонения, поэтому думаю, что Кампера нельзя назвать «вечным мыслителем», напротив, можно говорить о его забвении в кругу соратников (в таком случае, скорее бывших). На него ссылаются, но не его коллеги, а исследователи тем, поднятых им. Так как время идёт, его книги физически передвигаются вглубь полок библиотек, он перестает быть современным автором. Да и в обыденном смысле современной фигурой он не является – хотя бы потому, что физически он уже мертв. Однако от Кампера осталось нечто большее, нежели архив, его мысль проблематизировала в современности ряд актуальных проблем и, самое главное, техник работы с ними. Именно в силу значимости последних сегодня мы можем назвать его релевантно-актуальным философом.
Следующий вопрос принадлежал заместителю директора Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии – канд.культ. Алине Венковой.
Алина Венкова: Михаил, не могли бы Вы уточнить понятие «релевантно-актуальный мыслитель», используемое в контексте доклада и ответа на предыдущий вопрос? Кампер – актуальный или все-таки релевантный мыслитель? Из Вашего выступления следует, что эти понятия противоположны…
Михаил Степанов: Известна любовь Кампера к Гераклиту, особенно к тому его высказыванию, которое относится к воспроизводящему движение сущего пламени огня Логоса. В отношении самого Кампера можно сказать, что это пламя потухло, и в определенном смысле больше не поддерживается интерпретациями. Учения Кампера не существует, он не создал ту Тору, которая воспроизводит себя или впервые рождается в многочисленных интерпретациях всякий раз заново. Поэтому фигура Кампера находится вне вечности. Однако техники, которые он использует, локально – до сих пор значимы, поэтому, возвращаясь к своему исходному тезису, я признаю его релевантно-актуальной фигурой. Эти понятия не противоположны, Гройс, мне представляется, их пытается противопоставить, дабы оправдать сферу своих интересов, «релевантно актуализировать» свой символический капитал исследователя московского концептуализма.
Очередной вопрос принадлежал аспиранту кафедры Онтологии и Теории познания Философского факультета СПбГУ – Очеретяному Константину:
Очеретяный Константин: Михаил, пока Вы рассуждали об опыте релевантности и опыте актуальности, мне вспомнилась модель размышления об абсолюте Делеза, в соответствии с которой абсолют производится не как единая точка, а как машина – целостный агрегат адеквации, производящий смысл и организующий его топос. В связи с Вашим концептом «релевантной актуальности» возникает вопрос: принадлежит ли актуальность топосу или она принципиально атопична?
Михаил Степанов: Для Кампера актуальность представляет собой пространство, в котором необходимо присутствовать. Потому что его мысль – это живое пространство мышления. В этом и состоит особенность осуществляемых им практик, которую мы сможем видеть на примере организации им тех или иных мероприятий, где докладчики, как уже говорилось, сталкивались с живыми проблемами. К сказанному стоит добавить и особенности немецкой традиции, предполагающей чтение доклада с листа. Подлинная же дискуссия всегда осуществляется в кулуарах. Именно в этих дискуссиях мысль приобретает свободу от репрессивных форм академического мероприятия. Камперу нравилась такая форма дискуссий как фуршет или античный пир. Для примера сошлюсь на сборник, посвященный его 60-летию, носивший название «KorperDenken». Судя по названию, речь должна идти о мышлении телом и тела – основной теме исследований философа, однако никто из приглашенных в сборник авторов не рассуждает об этом. Почему там нет интерпретации? Раскрытия концепта? И в то же время мы знаем об одноименном мероприятии. Какие дискуссии происходили там? Мысль Кампера обретается в кулуарах и то же касается лабиринтов его письма. Это игра присутствия и отсутствия. Мысль Дитмара Кампера – непривычная мысль. В его спонтанной и неподрасчетной работе, как будто бы вольной мысли, заключена строгость и точность, а не стихийность и невоздержанность. Различая догму и процесс, неуспокоенная мысль Кампера являет собою процесс становления, производство опосредующих результатов, а не неких окончательных высказываний. С одной стороны его мысли трудно резюмировать, сведя к набору нескольких окончательных тезисов. С другой, предлагаемые им пути размышления над темами – Человек, Тело, Воображение, Образ, Мышление тела, Антропологический четырехугольник и т. д. – не дают нам окончательного понимания их, доступного кейс-стадис. Нет единого «учения Кампера», но есть актуальное единство множества исследований тем поднятых им.
К последней реплике был отнесен комментарий Валерия Савчука:
Валерий Савчук: Михаил, я могу подтвердить и у меня, как у представителя отечественной традиции, это вызывало удивление, впрочем, несмотря на ряд принципиальных различий, не меньшее удивление это вызывало и у западных коллег: Кампер обладал удивительным свойством – он не терял тонуса или напряжения мысли при личном общении. Этот факт ярко отмечали все его собеседники. Существует пространство семинара или конференции, где принято говорить серьезно, но стоит прозвенеть звонку или объявить приглашение на фуршет, как акцент дискурса смещается в иную перспективу: на фуршете завязываются возможно интересные, но скорее общие или даже пустые дискуссии. Там не говорят о том, что действительно интересует или волнует. Однажды при встрече Борис Останин задал мне среди прочего ряда типичных вопросов («Где был?» «Что видел?» и т.д.) следующий – «Что придумал?» В то время я писал книгу, но прозвучавший вопрос тем не менее оставил меня в озадаченном состоянии. Какое-то время спустя я стал задавать коллегам подобный вопрос – и всякий раз его эффект был подобен испытанному мной. У художника подобный вопрос не вызывает затруднения. Он тут же расскажет про свой проект, от выслушивания подробных деталей которого не так-то легко будет отделаться. Не вызывал затруднений этот вопрос и у Кампера, в любой реплике, в любом случайно завязавшемся диалоге он был чрезвычайно продуктивен. В поле его мышления не возникало ни пустых мыслей, ни пустых вопросов. Его личные беседы всегда получали продолжение в публичном пространстве, например, в пространстве текста.
![]() Продолжить обсуждение доклада Михаила Степанова на форуме, задать вопросы автору
Продолжить обсуждение доклада Михаила Степанова на форуме, задать вопросы автору
Следующий доклад, принадлежавший к.ф.н. Дарье Колесниковой, был посвящен отдельному тексту Дитмара Кампера, переведенному ей ранее для первого издания сборника статей философа на русском языке – «Дитмар Кампер “Тело. Насилие. Боль”». Текст под названием «Двуликий Янус медиа: эстетитизация действительности, возмущение чувств», критический комментарий которого докладчик представил аудитории, предлагает дуальную модель размышления о медиа. Как отметил докладчик, любой дискурс медиального изначально обременен двойственностью как в постановке проблем медиафилософией, так и в возможных интерпретативных техниках, используемых теоретическим аппаратом мышления о медиа. Самый простой пример подобного рода дуализма состоит в том, что речь о медиа, будучи начата, не может являться ни опровержением, ни принятием. Отсюда вытекает следующий теоретический постулат – выработать однозначную позицию в отношении вопросов медиа не представляется возможным. Так, по утверждению докладчика, прикладная медиатеория не обладает адекватной развитию медиасреды скоростью. Последнее приводит к тому, что опыт, даже в его высшей и регулирующей инстанции – теории, в современном мире не обуславливает понятие «медиа», напротив, понятие «медиа», те механики и практики, модели и метафоры, которые оно нам являет сегодня, обусловливает в мельчайших деталях наш повседневный опыт. Возможно, причина этой «детализации» – т.е. обусловленности конкретного опыта практиками медиа – кроется в иной, в сравнение с предыдущими эпохами, моделью времени, – в том, что докладчик назвал «машинизацией времени». Машинизация, в ходе которой даже самые привычные западному мышлению координаты – координаты душевного и телесного – переплетаются, усложняются и запутываются в неразличимости.
Слушать полную аудио-запись доклада Дарьи Колесниковой:
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
По окончанию доклада незамедлительно последовал вопрос:
Алина Венкова: Дарья, не могли бы Вы прокомментировать такой фрагмент демонстрируемого Вами изображения как саркофаг? Вы сказали о переплетении душевного и телесного, имеет ли здесь место какая-то инверсия: тела, души?
Дарья Колесникова: Да, тела трансформируются в образы тел, возводя для тела, в собственном смысле слова, тюрьму из образов. Долгое время тело выступало саркофагом для души, но когда тело превратилось в образ… Возможно, душа, питающая образы, стала саркофагом для тела.
![]() Обсудить доклад Дарьи Колесниковой на форуме, задать вопросы автору
Обсудить доклад Дарьи Колесниковой на форуме, задать вопросы автору
Последний прозвучавший на коллоквиуме доклад принадлежал аспиранту кафедры Онтологии и Теории познания Философского факультета СПбГУ – Павловичу Евгению. Его доклад «Насилие и визуальность в свете объективных форм зрелищного фетишизма»представил аудитории такой феномен современности как «брендовый фашизм». Исходя из тезиса о том, что в современном мире образ становится товаром, докладчик указал на связь между философским понятием «ценность» и экономическим понятием «стоимость». Акцентируя внимание аудитории на том, что современный мир давно привык мыслить стоимость вне ее реальной привязки к какому бы то ни было денотату, докладчик предложил проследить следствия, возникающие из модели мышления о ценности вне денотации. Так бренд, подобно граффити, являет собой пустое означающее, которое, несмотря на всю свою пустоту, все-таки способно выступать основанием для единения тех или иных социальных групп. Более того, будучи объединенными под единым брендом, эти группы лишаются до некоторой степени статуса социальных, скорее их можно признать «визуальными группами», т.е. группами, «питающимися» объединяющим их образом и в то же самое время питающих образ. Подобные группы асоциальны (если смотреть на них из перспективы социума), но постсоциальны в своей онтологической сути. Далее докладчик продемонстрировал групповые фотографии людей, в едином жесте приветствующих бренд. Этот жест по своей конституции чрезвычайно схож с жестом нацистского приветствия, и совпадения здесь не случайны – возможно, что одним из первых наиболее популярных брендов была именно свастика. Овладевая массами, бренды сегодня все больше повторяют логику движения свастики: в то время как сама свастика всё больше становится просто брендом. Мы видим, что образ объединяет человеческие массы не в меньшей степени, чем фигура фюрера, но объединяющее основание остается пустым. В этом проявляется торжество образа над телом. Образы организуют колонии тел. Зрелище являет собой прибавочную стоимость образа. Но какой ее объем достается самому образу? Если телесность в эпоху капитализма зрелищной стадии питает себя духом, сообщенным ей образом (в данном случае брендом), то не расплачивается ли человек за этот дух самим своим телом?
Слушать полную аудио-запись доклада Евгения Павловича:
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Далее взволнованная угрозой экспансии образа аудитория обрушила на докладчика ряд вопросов:
Валерий Савчук: Мы более-менее знаем, как бороться с капитализмом стадии товарного фетишизма, но какие способы борьбы с капитализмом эпохи зрелищной стадии?
Евгений Павлович: Еще Маркс полагал, что господство того или иного класса может проявляться и, более того, необходимо проявляется в господстве того или иного образа мыслей. На мой взгляд, капитализм сегодня является зрелищным, господствующие образы являются образами господствующего экономически класса. Что касается стратегии борьбы с образами, то здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой: как бороться с тем, что не имеет денотата? Как бороться с тем, что само по себе ни к чему не отсылает, но постоянно приватизируется той или иной социальной группой? А именно в такие условия нас ставит современная политика в отношении бренда, который, по существу, является пустым означающим.
Алексей Понятов: В докладе отчетливо слышится особенное ударение на словах «образ» и «свастика», что приводит к тому, что слушатель заражается негативным акцентом при употреблении слова образ не в меньшей степени, чем при употреблении слова «свастика» (возможный ассоциативный ряд которого известен). До определенной степени это демонстрирует определение образа в качестве мертвого тела. Но неужели образ – это лишь то, что осталось от тела?
Евгений Павлович: Нельзя ограничиваться негативными характеристиками образа. Мы не можем сказать, что образ всего лишь негативен. Будучи в современном мире товаром ( я полагаю, что в данном случае можно использовать концепт «образ-товар»), образ берет на себя функцию коммутатора. Именно он диктует современному обществу основные принципы коммуникации. Но в то же время перед нами встает проблема «иконической антропофагии» – проблема «поедания образов людьми», обозначенная Норваллом Байтелло мл.
Важный комментарий к ответу был сделан к.ф.н. Михаилом Степановым:
Михаил Степанов: Действительно, проблема образа и насилия стоит для Кампера крайне остро. Мы все помним модель антропологического четырехугольника Флюссера-Кампера. В котором «объем», т.е. мир действительных вещей, плавно переходит в «плоскость» образа, далее в линию письма и наконец – в дигитальную реальность, и такой переход, несомненно, являет собой насилие, итогом которого становится «смерть тела в образе». Однако, если выдвинутая Флюссером стратегия ориентирования в современности просто призывает к тому, чтобы двинуться «назад к вещам», начав проектировать и создавать дигитальные, а затем и многомерные реальности тел (чем не нанотехнологический проект?), то Кампер говорит о возвращении живого тела, он упраздняет четырехугольник через ввод в него пятого угла. Он упраздняет эту «лестницу абстракций» путем вписывания ее в живое преразмерное тело. Можно вспомнить модель «тела без органов» Арто-Делеза, в котором потоки смещают и замещают друг друга. Подобное смещение наблюдается и в модели Кампера, который представляет тело производителем и транслятором токов данных, воплощаемых в различных режимах – режимах медиа. Тело способно вступать в мир образов потому, что образы вступают в мир благодаря телу.
Валерий Савчук: Я позволю себе вопрос уточняющего характера. Если помните, я спросил: «Как бороться с капитализмом эпохи зрелищной стадии»? Теперь я дополню его следующим вопросом: «Можно ли с образом бороться образами?»
Евгений Павлович: Мне кажется, что в данном случае мы затрагиваем извечный для марксизма вопрос. Где располагается проблема: в базисе или в надстройке? Что является наиболее пагубным: сам образ, его идеологическая сторона или источник и способ продуцирования образа?
Валерий Савчук: Тем не менее я полагаю, что сражение может идти только в одной плоскости. Но, действительно – Вы, отчасти, правы: Кампер акцентирует внимание на негативной функции образа, образе насилия. Надо помнить, что Кампер – человек эпохи Гуттенберга, он родился в 1936 году, всю жизнь писал ручкой или печатал на машинке, а дигитальная цивилизация коснулась его только краем… Характерная деталь, он никогда не фотографировал те места, которые посещал, которые полюбил, поскольку прекрасно понимал, что, как только ты фотографируешь, ты убиваешь впечатление, которое получаешь о месте, где находишься в данный момент (здесь и сейчас). Визуальный фотопротез ведет к иллюзии отсроченного впечатления. Ты думаешь, что рассмотришь снимок потом, однако будешь рассматривать не то, что можешь увидеть и почувствовать сейчас, а исключительно картину, совпадающую с разрешающими возможностями техники. В этом смысле Кампер относился к образам негативно. Характерной в этом смысле для меня оказалась поездка с Кампером и его спутницей Бирке в Петергоф. По его настоянию мы приехали рано утром, часов в восемь утра (была осень, туман), а фонтаны включаются в одиннадцать. Но, несмотря на то что фонтаны не были включены, Кампер настолько отчетливо представил их – у Римского фонтана они читали стихотворение Рильке, воображая струи его. Позже сказал: «А может быть и хорошо, что они не действовали?» Его воображение вкупе с отсылкой к культурным артефактам позволило ему оживить топос путем продуцирования образов.
Очередная реплика принадлежала преподавателю кафедры Онтологии и Теории познания Философского факультета СПбГУ к.ф.н. Екатерине Наумовой:
Екатерина Наумова: Я бы хотела поддержать Евгения, мне близка его тема относительно связи медиа и проблем современного капитализма, в том числе проблем образного фетишизма эпохи зрелищного насилия. Полагаю, что эта тема действительно нуждается в осмыслении. На мой взгляд, здесь мы сталкиваемся с двойной проблемой: с одной стороны, продуцируя образ мы создаем нечто новое, то, что может реконфигурировать политическое, социальное, философское – и в этом смысле образ работает как субверсия, потому что он может подрывать (и непрестанно делает это) основания любых устоявшихся дискурсов. Но где та тонкая грань, когда продуцирование образа оборачивается фигурой власти; когда сам образ оказывается тем, что подчиняет нас и, в этом смысле, не субверсивно подрывает устоявшиеся дискурсы, а встраивается в них? Здесь возникает вопрос о различии. Возможно, эти образы продуцируются различными инстанциями, хотя мы понимаем, что до некоторой степени мы сами являемся творцами образов. Но это также и вопрос власти, вопрос психики, вопрос образа… по большему счету – вопрос свободы. Конечно, эти вопросы нужно поднимать и рассматривать их во взаимосвязи. Выход из данной ситуации связан с ответом на ключевой вопрос, задающий напряжение нашей мысли сегодня. Образ можно истолковать как самопорабощение, которое мы непрестанно производим, и вопрос в таком случае звучит для нас так: «Почему мы остаемся включенными в этот процесс? Почему порабощение образом оказывается для нас желаемым?»
Валерий Савчук: Возвращаясь к своему вопросу, на этот раз в утвердительной форме полагаю, что с образами можно бороться только образами. Так же как миф, который можно преодолеть только в рамках другого мифа, образ можно вытеснить или устранить, только заменив его другим образом, невербальной критикой.
![]() Продолжить обсуждение доклада Евгения Павловича на форуме, задать вопросы автору
Продолжить обсуждение доклада Евгения Павловича на форуме, задать вопросы автору
Этим тезисом о борьбе с образами средствами самих же образов, демонстрирующим логику визуального производства и акцентирующим внимание на актуальной стратегии сопротивления образам, коллоквиум «Дитмар Кампер: личность, идеи, творчество» был завершен. К сожалению, время отведенное на коллоквиум не позволило некоторым участникам озвучить тезисы своих докладов. Одним из них оказался доцент кафедры Онтологии и теории познания к.ф.н.Алексей Михайлович Сидоров, с докладом «Эстетизация действительности» – от современной теории до «Аватара» - тезисы которого мы здесь представляем.
Один из сюжетов Дитмара Кампера – «эстетизация действительности», которую он связывает с искусственностью медиа-реальности в современной цивилизации. Этот тезис находит в последние годы многих сторонников. Так, В.Вельш в книге «Разрушение эстетики» говорит о переживаемом сегодня буме эстетизации, которая распространяется от индивидуального стиля, планирования городов и экономики до теоретического дискурса. Все больше и больше элементов реальности подвергаются эстетическому преобразованию, и реальность в целом неуклонно становится все более эстетически конструируемой. Причем, в дополнение к поверхностной эстетизации, происходит глубинная, воздействующая на базовую структуру реальности как таковой. Материальная реальность подвергается воздействию новых технологий, социальная – медиатизируется и виртуализируется, субъективная – попадает под власть аффектов из-за распада этических норм. Эстетизация для Вельша означает, что реальность представляется результатом такого процесса, который раньше был знаком нам лишь в сфере искусства – она сотворена, изменчива, необязательна, беспочвенна. Похожие идеи можно обнаружить у Дж.Ваттимо, который видит результат воздействия масс-медиа в «эстетизации реальности», которая скрывается за переплетением медиа-образов. Ж.Бодрийяр описывал медиатизированную реальность современного общества как искусственную в своей основе: в ней все вещи обладают эстетическим очарованием, порожденным ни художественным замыслом, ни эстетической дистанцией восприятия, а самой искусственностью этого мира. Друг Бодрийяра П.Вирильо, на которого также ссылается Кампер, предлагает «эстетику исчезновения»: вещи исчезают, замещаются новыми технологиями, которые успешнее осуществляют «принцип реальности» в цифровой симуляции. Даже голливудское кино, которое, по наблюдению Б. Гройса, сегодня более философично, чем европейский артхаус, поскольку все чаще обращается к ключевой теме современности – соотношению медиа-образа и реальности – внесло свой вклад в развитие этой темы. Фильм Дж.Кэмерона «Аватар», на поверхностном уровне демонстрируя немудреную консервативно-экологическую утопию, по сути говорит о возможности для обычного юзера (в фильме это безногий калека – то есть, современный человек с атрофированным телом, сидящий целыми днями перед монитором) уйти в виртуальную игру навсегда, слиться со своим аватаром, который даст гораздо более полноценное существование, чем прежняя реальность. Это манифест игры, из которой не нужно возвращаться, и которая более реальна и аутентична, чем сама реальность. Более того, она может дать новую жизнь телу в виртуальном образе (безногий герой фильма становится гибкой разумной кошкой, наслаждающейся свободой и мощью своих движений на Пандоре – можно истолковать эту планету как игровой мир). Общая констатация «эстетизации» у Кампера, Вельша, Ваттимо, Бодрийяра, Вирильо и многих других теоретиков, а также в саморефлексии масс-медиа в кинематографе, приводит к постановке множества вопросов – соотношения «реального» тела и образа тела, реальности и «эффекта реальности», искусственности и искусства и т.п., которые образуют проблемное поле актуальной философии.
![]() Обсудить доклад Алексея Михайловича Сидорова на форуме
Обсудить доклад Алексея Михайловича Сидорова на форуме
По окончанию коллоквиума обсуждение творчества Кампера, следуя стилю и пристрастиям его мысли, перешло в режим фуршета и кулуарных дисскусий. В том режиме секретарь коллоквиума – Очеретяный Константин и озвучил, волнующую его проблему:
Очеретяный Константин Алексеевич, аспирант кафедры Онтологии и теории познания Философского факультета СПбГУ.
Тезис о смерти Бога, равно как и тезис о смерти человека, выдвинутые Фридрихом Ницше в XIX веке, мгновенно нейтрализовав метафизические разыскания предшествующих эпох, развернули перед хищным взором theoros’а, плодородную на постановку проблем почву той эпохи, которую мы до сих пор называем современной. Тем не менее, если, настраиваясь вслед долгоиграющей интонации Хайдеггера, мы признаем, что «определяющая чеканка бытия», будучи сорвана подрывом основополагающих конструкций понятийной сборки – таких как человек и Бог – открыла мышлению топическую модель синтеза события, то почему бы не пойти далее, сказав, что ныне этот синтез не является актуальным ни для перцептивного, ни для концептуального схватывания. Топические модели мышления, т.е. модели, подобно техникам брикколажа зависящие от произвола агрегатной сборки аппарата, направленного на реализацию конкретной и всегда частной цели (логика машинной сборки), отменяются логикой медиареальности. Таким образом, рельеф ландшафту современной мысли задается тезисом о смерти машины.
Понятие «машина», происходящее от греческого слова μηχανή (уловка, ухищрение), начиная с XVII века определяет доминирующую в проблематике взаимодействия природы и человека модель мышления о сущем как о механизме, корректируя те или иные функции которого (будь это функции природного или социального механизма) можно добиться требуемого эффекта. Однако, уже в XVIII веке в «Первом введении в критику способности суждения» Кант говорит о том, что мы не можем мыслить природу, исходя из произвола предписываемых ей целей, мы мыслим ее не столько как случайный агрегат (как машину или механизм), столько как целостную техническую модель, безотносительную к какой бы то ни было конкретной цели – т.е. цель, несмотря на актуальное отсутствие, определяет природу виртуально. Подобная перспектива вопрошания открывает проблематику виртуального мира, которая для современной эпохи неразрывно связана с понятием «медиа». И, действительно, чего стоит гиперпродуктивность машинного производства в сравнении с регулятивным принципом аскезиса медиа («седирование»)? Машина организует продуктивное насыщение среды путем обмана имманентной фюзису функции экономии усилия – медиа же, напротив, стремится к собственному отрицанию, позволяя интенции, через стирание ряда проводников и посредников, устремляться к своему объекту напрямую. Вопрос о современной конфигурации природы и социума в таком случае имеет прямое отношение не к положению об изобилии, но к положению о скорости – ведь именно ее интенсивность высвобождается самоотрицанием посредника. Смерть машины высвобождает пустоту (нуль –дименционал), пустота высвобождает скорость трансляции (интенции или желания), последняя преображает сущее до неузнаваемости, формируя реальность как медиа. Техника художника или скульптора издревле сопряжена с проблематикой расщепления, так Микеланджело не синтезирует фигуру Давида, но расщепляет глыбу мрамора. Микеланджело не производит, но работает с пустотой. Возможно, что с тем же правом, с каким скульптор изображает пустоту через самоограничение творящего поэзиса, мыслитель в эпоху медиа способен мыслить пустоту: что означает не мыслить пусто, но мыслить через дисконтинуальность и дискретность те эффекты и феномены, которые мыслились прежде через полноту и максимум реализации (актуальность).
![]() Обсудить доклад Константина Очеретяного на форуме, задать вопросы автору
Обсудить доклад Константина Очеретяного на форуме, задать вопросы автору
Тезис о смерти машины, озвученный Очеретяным, вызвав резонанс у Михаила Александровича Степанова, работающего в настоящее время над проектом «К медиафилософскому пониманию машинного», и привел к продолжительной полемике:
«О смерти и жизни машины»
(e-mail М.А. Степанова и порционный ответ на него К.А. Очеретяного)
Михаил Степанов: Вы используете много концептов, причем как говорится «из разных опер», это вызвано постмодернистским рельефом Вашего ландшафта? Однако не соответствует рельефу заявленной темы с громким названием под номером №.N Смерть бога, человека, субъекта, образа… и т.д. (1) Меня же в данном случае интересует, почему у Вас в скобках к пустоте – нуль-димензионал – концепт В.Флюссера? используемый не по ландшафту. (2) Пустота нулевого измерения численного мышления возможна именно благодаря машинам, а точнее такой из разновидности как пост-механические машины или аппараты, которые способны творить из пустоты, актуализировать множественную виртуальность. Вы, верно диагностируете смерть машины, но так же как и Фуко осторожно говорит о смерти Субъекта как новоевропейского изобретения, так и Вам следовало бы уточнить (правда для этого потребуется написать что-то на подобие «Слова и Вещи») что речь идёт о новоевропейском машинизме, машине механической производящей вещи (или «информирующей вещи» как пишет Флюссер).
(3) Машина как хитрость против природы – идея античная и чтобы её приспособить к медиареальности, что Вы пытаетесь сделать, необходимо иметь дело с медиа эпохи Античности. Если Вы хотите говорить о медиа, допустим моём концепте ‑ медиа как машины абстракций, то прежде избавьтесь от понимания машины как чего-то полного, материального, собранного из деталей, хайдегерровского постава – «Аппарат это не постав» (отсылаю Вас к статье К.Кассунга). Для простоты понимания вспомните, полагаю известное Вам различие машин божественных и человеческих у Ляйбница.
(4) Далее Вы явно используете концептуальный аппарат Ж.Делёза и Ф.Гваттари, но ничего не пишете об их машинах желания, и других типажах машин. Могильщик спутал надгробия, или не дописал фамилии? Машина – это не механика, и не органика; она далека от технической машины как наглядного, полезного агрегата (пресловутый постав Хайдеггера), – это непредставимое бессознательного и сама не поддается репрезентации, так как она есть множественность гетерогенных составляющих. (5) Иначе говоря (в данном случае этого достаточно) – машина не равна техническому устройству, к которому Вы, как я понимаю, пытаетесь свести медиа. (6) Так медиа – это машины абстракций, они работают на непредставимом, том самом, что позволяет им работать в разных режимах и производить разные продукты – образы, письмо, дигитальные проекции и всевозможные их модификации (подробнее об этом – отсылаю Вас к своей статье в Медиафилософии 2).
Вопрос, что Вы понимаете под «регулятивным принципом аскезиса медиа («седирование»)»? Красивые слова в малопонятной последовательности? «Опера» неузнаваема, а звучание обрывается и не дает гармонии смысла.
(7) Интенции и желания, транслируемые медиа, произведены определённым образом – техногенным образом и имеют воплощение в определенном медиальном режиме – будь то образ, звук, текст и т.д. Только лишь «машины внушения», названные так Виктором Тауском, действовали невоспринимаемо большинству кроме венской студентки философии Наталии А., которая пожаловалась психоаналитику Тауску в 1919 году на то, что её пытаются манипулировать и на неё воздействуют через некий аппарат аж из Берлина.
Противопоставление «синтеза» и анализа («расщепления»), а далее «производства» и «работы с пустотой» уж совсем метафизичны, как мне представляется, и требуют авторской интерпретации. Пожалуйста, если не затруднит, расшифруйте.
(8) Призыв мыслить виртуальность, против актуальности прежних эпох, занимателен, но спотыкается, как и прежде, о само мышление, ибо оно есть деятельность in actu, которая и производится через «прерывность», то есть – актуализация множественной виртуальности всегда и происходила через различия или различания (разбивающее единство тождества), осуществляемые теми самыми машинами которые «в нас» (восприятия, желания) и «вне нас» (независимые от нас аппараты – медиа – средства производства смысла)» (как не вспомнить Ницше – Наше средство письма влияют на нашу мысль).
(9) Речь в защиту пустоты похвальна, но не по адресу машины. Вы сводите всю философию машинного к частному случаю философии техники Хайдеггера, который строит универсальную онтологию человеческого бытия из частного случая – бытия протестантского ремесленника, для которого производство излишнего излишне и противоречит совести протестанта. Частный универсализм такого рода едва ли пригоден к аналитике медиа. Машина жив/-о/-а/-ы. Смените надгробие, «имя» написано по ошибке. Как говорится в таких случаях – всему своя машина.
Константин Очеретяный: Постмодернизм, как известно, мертв. Используемые мной концепты – это то, что от него осталось. Но они уже не подобны себе прежним. Это философия на обломках, или новый миф. Философский культ карго.
(1)Концепт Флюссера, будучи одним из обломков машины, действует уже вне целостного агрегата. В данном случае, я использую его для фиксации непродуктивной дискретности. Т.е. той точки отсутствия, которая позволяет свободно пропускать те или иные интенции. Как, например, по версии Аркадия Драгомощенко, Бог творит мир? Он убирает из мира себя и благодаря этому все сразу приходит в движение. Как пишет автор? По, крайней мере, после Бланшо, Барта, Фуко он пишет путем самоустранения себя из текста. Речь идет о непродуктивном производстве. В частности, это возврат к переосмыслению философии дискретности Декарта. Почему картезианцы не смогли избавиться от проблемы дискретности? Можно ответить просто – у них не было диалектического аппарата. Но, полагаю, именно в дискретности обретается субъект Декарта. Убрав дискретность, картезианцы убрали бы и субъект. Так в «Рассуждении о методе» Декарт фиксирует производство себя как автономного субъекта (а вместе с тем и саму модель мышления автономной субъективности) следующим образом: «После того как я употребил несколько лет на такое изучение книги мира и попытался приобрести некоторый запас опыта, я принял в один день решение изучить самого себя и употребить все силы ума, чтобы выбрать пути, которым я должен следовать. Это, кажется, удалось мне в большей степени, чем если бы я никогда не удалялся из моего отечества и от моих книг»[2]. Т.е. Декарт сначала путешествовал, а потом вернулся к книгам. Почему он не стал сразу читать книги? Очевидно, тогда он оказался бы типичным схоластом – представителем той или иной школы. Его же опыт – это опыт противодействия опыту. Между опытом внешним и внутренним существует граница сопротивления и на этой границе и формируется субъект. В этом же ключе мыслит и Пруст, который в «Поисках утраченного времени» определяет субъективность как процесс, возникающий из резонанса впечатления (например, впечатления коренящегося в пирожном Мадлен) и сопротивления ему. Его собственный опыт прошлого – это конструктивная борьба с памятью. Т.е. память не довлеет в нем в качестве опыта прошлого, раз и навсегда фиксирующего фигуру рассказчика в том или ином статусе, но, напротив, сопротивляясь своему «сегодня», своему сегодняшнему опыту, он раскрывает ландшафт опыта прошлого. При этом не своего прошлого (не автора и не рассказчика, т.к. речь идет о массовых не- или вне-индивидуальных феноменах: об аристократии и буржуазии, о деле Дрейфуса, о путешествиях тех или иных людей, с которыми рассказчик не мог быть знаком, о воображаемых путешествиях). В нарративе Пруста нет места транслятору сообщения, он убрал себя, высвободив тем самым сообщение. Нуль – это не предел, но возможность. Как много возможностей пришло в движение с появлением в европейском сознании( в том числе и математическом) представления о нуле?
(2) Да, замечание очень верное, но я скорее противопоставляю медиа машинам. Известно противопоставление техники и технического у Хайдеггера. Она берет свое основание в «Критике способности суждения Канта». Но, как Вы верно заметили, Кант рассуждает о машине как о механизме. Вы же противопоставляете, как мне кажется, механизмам машину. Это верно и за этим стоит целая традиция… Но, тот же Делез, как мне кажется, ведет речь о продуктивности. В самом начале «Анти – Эдипа» они с Гваттари говорят о том, что все производиться. Вот здесь-то я и попадаю в тупик. Мне кажется, что медиа ничего не производит, по крайней мере, напрямую. Медиа не производит реальность так, как это делает машина. Машина насыщает, она функционирует, исходя из изобилия (коннективный синтез у Делеза). Она производит изобилие. Медиа, напротив, самоустраняясь (мы едва уже замечаем их), увеличивает скорость соприкосновения намерения с объектом намерения. Допустим, я хочу сделать то-то и то-то. Машина произведет и размножит мое действие. Медиа, возможно, также размножит, но их способ действия иной. Когда я беру в руки карандаш, я его уже не замечаю, мои внутренние импульсы тут же переносятся на бумагу. Что бы стало с этими импульсами, если бы мне пришлось потратить длительное время на замещение письменных медиа? Мне интересно посмотреть, как та скорость, которую высвобождает медиа, взаимодействует с нашей интенцией. Что происходит с нашим намерением в условиях скорости его передачи. Представим, например, что я кому-то пишу, ну…скажем, любовное письмо.. . в классическую эпоху. Я беру перо, озабочиваюсь нужными чернилами, нахожу дорогую бумагу и…все… Я уже понял, что не хочу больше писать. А смс-сообщение…? Предположим, что кто-то признается в любви по смс. Этот вид сообщения мгновенно отвечает спонтанности желания, а потом, кто-то хочет взять слова обратно и уже не может. Таким образом, медиа моделирует даже то, что мы считаем наиболее спонтанным или естественным…
Машина (еще с новоевропейских времен) очевидна, ее можно потрогать, увидеть. В этом ее относительная безопасность. Медиа же все больше устраняются из виду, их как бы нет, и следствия этого исчезновения также не спешат являть себя взору. Я бы вообще говорил о машинах, отнеся сюда также и концепцию Делеза, только в новоевропейском смысле агрегатной сборки, а творение из пустоты закрепил бы за медиа. В чем различие? В том, что машина всегда применяется по прихоти или произволу, последствия ее неотвратимы, но она всегда производит пустоту (капиталистические машины, производящие трущобы нищих в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» Маркса). Медиа же производит из пустоты. Машина меняет все в действительности, медиа меняет действительно все. Речь в режиме рефлексии о медиа уже идет не о конфигурации вещей, но о конфигурации измерений.
(3) Опять же, очень хорошее замечание. Действительно та или иная инженерная схема, может существовать не только как актуальная сборка, но и как техника действия (экзистенциальная техника выживания, например). Но по поводу деталей… Даже Делез не смог избавить машину от деталей… Детали есть – уж таков принцип машины, что она будучи сборкой, всегда компонуется на пересечении и столкновении чего угодно: моделей мышления, актуальных проблем, техник и (ре)презентации. Если же все-таки говорить о машине вне деталей, я не вижу смысла в сохранении старого названия.
(4) Вот, Вы говорите о множественности гетерогенных составляющих и при этом, в вопросе выше, Вы говорили, что она не из деталей. Могильщик в таком случае также непоследователен, как и посетитель кладбища, перепутавший цветы, предназначенные для свидания, с цветами, приготовленными к посещению кладбища. Я объясню: детали я понимаю именно как множественность гетерогенных составляющих. К сожалению, у нас нет единой философской истории машины (в русле истории сознания у Гегеля, со всеми, конечно, поправками), мы можем говорить о них, ориентируясь лишь на разрозненные имена (Лейбниц, Ламетри, Кант, Хайдеггер, М(э/е)мфорд, Делез). Самый простой, пример: как отличить механицизм от машинизма, если машина – это одновременно и следствие и условие логики механицизма? Полагаю, что пока мы говорим о машине в русле множественности гетерогенных составляющих (а об этом говорил еще Кант), мы не можем избавиться даже от античного определения машины. Что гомогенного в гайке и шестеренке?
(5) Вот здесь все действительно очень сложно. Что такое, например, техническое устройство? Кант разделяет машину и технику, но в каком смысле он говорит о технике? В том смысле, что меняя одну деталь в техническом устройстве, мы изменяем все техническое устройство в целом. Он говорит, что если бы ему дали материю – он бы смог создать мир (мир неорганический – это механизм), но если бы ему дали материю – он не смог бы создать гусеницу, настолько сложна, по его выражению, «техника природы». Высшие устремления природы – органические существа – слишком сложны для логики машины (он объединяет машину и механизм), органический мир – мир не механический, но мир технического. Более того, реализуя свои модели в мире природы, импульсы мира желания так или иначе подчинены целесообразности. Т.е. желание вынуждено обращаться к технике. Но это не значит к индустриальной технике, т.к. индустриальная техника это – машина. Т.е. если Делез мыслит желание через машину, то Кант – через технику. И каково же это отношение техники к желанию, вот это я и предлагаю рассмотреть на предмете медиа.
(6) Регулятивный принцип аскезиса медиа – это медиа, внутренним принципом которых является самоограничение, самоустранение. Полагаю, что такова логика всех медиа. «Седирование» я поставил сюда для того, чтобы показать, как актуальное ограничение измерения (например телесности, которая растворяется, соприкасаясь с клавиатурой или чем-то еще), оборачивается виртуальным обогащением (возможно «псевдо-», но как говорить о «псевдо» в ракурсе виртуального?) Принцип медиа – это принцип аскета философа. Здесь можно вспомнить Ламетри, писавшего о том, что «втиснутая в пределы мира философия при помощи воображения создает миллионы миров». Я не говорю, что использование медиа помогает стать философом. Возможно… Но я говорю о том, что аскезис медиа освобождает дополнительные скорости движений воли и чувства, а эти скорости влияют на конфигурацию реальности.
(7) Это то, что меня смущает и занимает сегодня. Как работает с пространством скульптор, танцор, философ. С танцором все относительно понятно, его мастерство зависит от динамики движения, сосредоточенной на возможно более экономном пространстве. Чем больше движения он производит на меньшей геометрической площади, тем более он плодотворен. Именно от этой метрической экономии (используя язык математической топологии), зависит степень объема проективности создаваемых им образов. Что касается скульптора – здесь тоже до некоторой степени все ясно – он работает с пустотой. Он видит объемы сквозь пустоту. Что делать философу? Я предложил понимать медиа как дискретное пространство. Как в таком случае мыслить пустоту? Этот вопрос я пытаюсь решить и не нахожу на него ответа. Наиболее интересными в данном случае мне кажутся мысли Лакана и Киттлера. Лакан, вслед за Гегелем, предлагает искать начало искусства в архитектуре. Что такое архитектура? Это искусство посвященное мертвецу (для Гегеля – Богу). Она организует пустое пространство и, по Киттлеру, именно этот глаз мертвого Бога (пустой глаз) стал тем окуляром, посредством которого человек эпохи Нового времени стал видеть мир как картину. Глаз мертвого Бога позволяет складывать и разлагать мир – анализировать его. Мы уже знакомы с подобной моделью благодаря Хайдеггеру, оптическим изысканиям того же Киттлера… Но если пустота вводит в мир новое измерение – измерение линейной перспективы, а вместе с этим вводит в мир и машину как спонтанный агрегат разрешения проблем, возникающих в аналитическом пространстве, то как мыслить пустоту сегодня? Как помыслить пустоту вне линейной перспективы? Последняя, впрочем, даже в своих а- линейных вариациях в постструктурализме, все еще сопряжена с логикой машинного дискурса. Благодаря Делезу мы знаем, как моделировать сборки, знаем, как синтезируется желание, мысль… Он повернул свою философию против нехватки, увидев в ней пустоту, но пустота сопротивляется в равной мере, как нехватке, так и машинному производству насыщения. Поэтому, возвращаясь к Киттлеру, я полагаю, что необходимым остается решить вопрос о том, как мыслить пустоту, вне перспективы?
(8) Вот это для меня тоже большой вопрос. Как влияют медиа на мысль. Влияют ли они тем, что устанавливают посредника, или тем, что напротив, устраняют целый набор обходных практик и просто соединяют нашу мысль, напрямую, с объектом. Соединяют настолько прямо, что мы привыкшие к проводникам уже не узнаем себя. Возможно, кто-то смог бы написать в русле новой эсхатологии работу об «Откровении медиа».
(9) Я думаю все- таки оставить название. Хотя, Вы во многом правы. Но необходимо, впрочем, сконцентрировать внимание на том, что мы больше не мыслим в терминах машины, у нас нет ее более, ни как актуальной сборки, ни как продуктивной модели мышления/желания. Мы слишком привыкли мыслить в терминах машины, я же предлагаю заменить мышление о сборках/разборках, на мышление о пустоте. Не знаю пока, как его определить, но машина для меня – это модель присутствия, не знаю можно ли говорить о присутствии в отношении к медиа, скорее они стремятся к минимализации вплоть до отсутствия.
![]() Продолжить обсуждение доклада Константина Очеретяного на форуме, подключиться к полемике
Продолжить обсуждение доклада Константина Очеретяного на форуме, подключиться к полемике